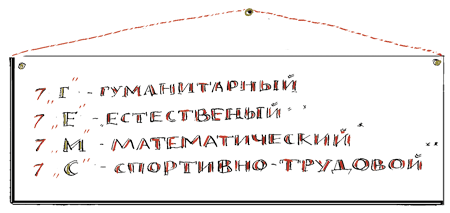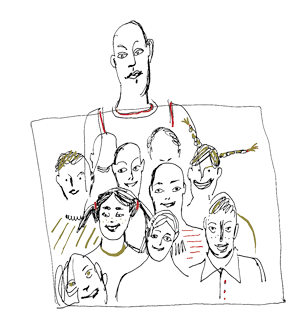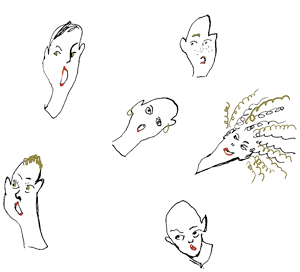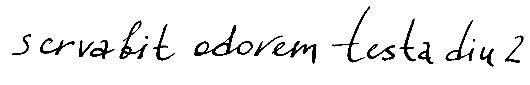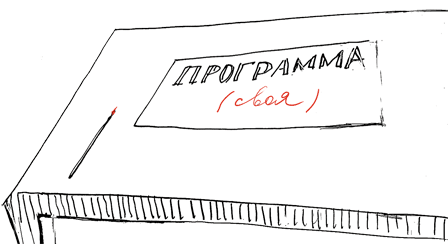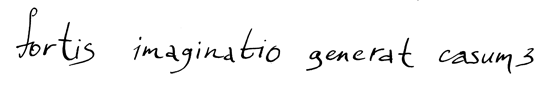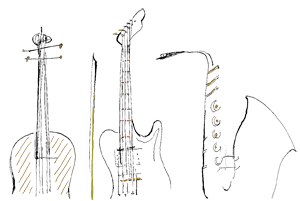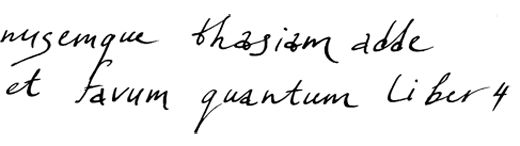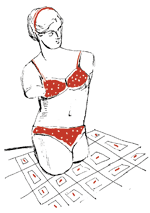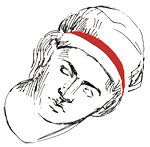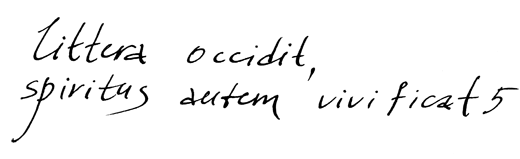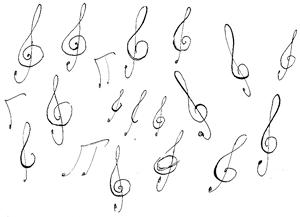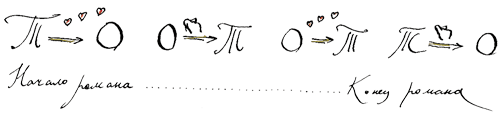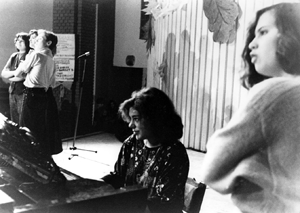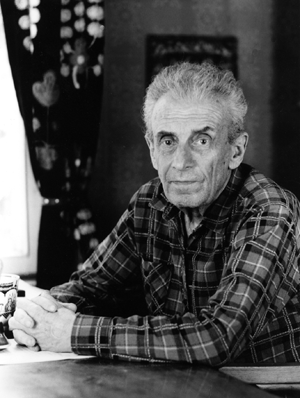| 3 Сильное воображение порождает событие (лат.). |
|
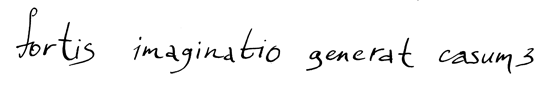
Буду откровенна: программа получалась неправильной. Была она, как я теперь понимаю, построена по принципу пролога к фильму, который я бы сняла, если бы была режиссером.
Завязка такая: тяжелая дверь, из нее — развевающийся плащ (это герой обгоняет женщину); камера подхватывает шаг женщины, забывая про героя. То же самое, но включается аллея, по которой идет женщина: сосны, солнце, песок. Вот она (обязательно на ходу) покупает газету; камера бросает героиню и, ускоряя темп, припускается за китайцем-газетчиком. Мы видим быстрые руки, упругие шаги, движения ритмично повторяются.
Взгляд газетчика ловит музыкальный профиль высокой девушки. То же самое, но крупным планом — мы видим белки с еле различимыми розовыми прожилками, рыжие волосы — концы их пушит ветер, видим склеивающуюся прядку, прилепившуюся к ней ошметку тополиного пуха. И никакого китайца, он уже нас не интересует. Так продолжается некоторое время, заступает новый персонаж и уводит камеру за собой. Но потом, в конце всех блужданий по сюжету, герои оказываются вдруг соединенными. И все свободные детали — стежки, профили, полуобороты, пляска плаща, сосны, все контуры, все тени — становятся неожиданно значимы в новом контексте.
Кстати, усвоив уроки Редюхина, я сейчас чуть сама не примастрячила на полях этой страницы схему: хотела изобразить основные ситуации своего курса, а также зигзаги и обходные пути, изгибающие первоначальный замысел в немыслимые параболы и спирали, — но только еще раз убедилась — программа была-таки ну совершенно неправильной. И мой 7 Гу только усиливал эту свободоходность. С ним все как-то оказывалось…
Сначала я хотела назвать курс, по совету Библера, «Двадцать пять лет русской литературы». И показать, как включаются в этот интересный период (1812–1837) разные историко-литературные ситуации, споры, взаимосвязи, как «вошла» в это двадцатипятилетие предшествующая и последующая литература, в том числе мировая. Я следовала мысли, что история литературы — не прямая линия, а круговорот, лабиринт, мешок миражей, недра неизвестного, а не неподвижного. Пути и встречи в котором и случайны, и предопределены (пути: перекрестки, переломы, перемены; переправы, переходы, перехваты; перст, перл, персона).
К слову. Меня задевало, что вещи, которые делались в культуре долго, открытия, сопровождающиеся мучительными спорами и непониманиями, оформлявшиеся веками, все, над чем они страдали и что они так трепетно любили, — теперь, в современной школе, «проходятся» за один-два урока.
Где-то слышала: пройти можно только мимо.
Я стремилась на уроках к медленному чтению, к вглядыванию, всматриванию, вслушиванию — в строй языка, в там и здесь брошенное сомнение, в загадки и персидские узоры текста. Какой-нибудь пустяк — скажем, выскочивший внезапно знак препинания и тут же, у всех на глазах, здесь и сейчас превративший как будто уже понятое всеми стихотворение в другое, незнакомое, — мог поймать за хвост благополучно закончившийся было урок и устроить новую невнятицу. И мы нетерпеливо начинали искать новых смычек…
Всем известно, что литература в школе изучается «по шедеврам», по высшим ее точкам, а подводные течения и обдувавшие ветра не захватываются.
Литературная эпоха растворяется в далеком тумане, а во главу угла встает имя. Запечатленное в скрижалях. Что серьезно и справедливо. Ибо нельзя запомнить всего, узнать обо всем. В культурной памяти остаются лишь вершины, айсберги, купола. Если же не учесть их, то образуются провалы, пустоты, — это верно.
Однако обнаружилось: если мы хотим понять литературную эпоху, стоит обращаться не только к шедеврам, но и к «обычным» произведениям. Именно так: не «вершины», а рядовые свидетели.
Шедевр всегда ломает каноны. И создает свои истины, и вырывается (образец — это рапид, а не стоп-кадр). И неверно придавать эпохе только свойства ее вышины.
Слабое юношеское произведение Лермонтова «Вадим» говорит нам о романтизме больше, чем шедевр, скажем, тот же «Демон». Возможно потому, что требования, диктуемые каноном, в слабом произведении проступают сильнее, чем требования поэзии.
* * *
«…И налетел ветер на акации». У меня появились вопросы, заимствованные у учеников и поставившие в тупик мой читательский опыт. Я думала, что знаю Пушкина и умею его ценить, — я ошибалась. Я думала… <…>
Ученические вопросы давали вкус и цвет моей (нашей) программе, сосредоточивали внимание на мелочах, незаметных истинах, позволяли мне самой как бы заново проходить ученический путь. Мы бились над затейливыми пустяками, над вопросами, которые в ту пору казались мне случайными
(а теперь — важными); мы отвлекались, придавали значение непроверенным мыслям, понимали — не понимали друг друга, сглаживали трудности и наоборот.
Иным словом, программа не писалась, а складывалась. Я стремилась включить в нее споры изучаемого периода, и переходы из одной стихии в другую, и ту игру причин и следствий, которая рождает или отвергает новые открытия.

|
|
|
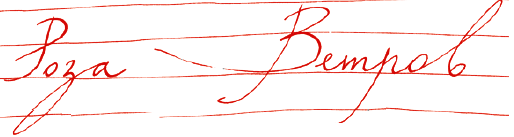

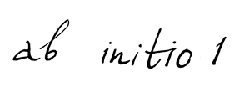

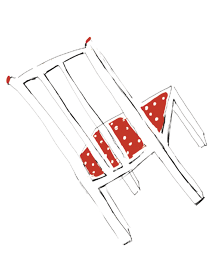 …Пришла в класс — затоптанный, с разбитой мебелью. Дети, взбесившиеся от весны, перестройки и ничегонеделания. Крики, кривляние, никто учиться не хочет. Демократия только что вылупилась из яйца — все качали права, даже эти крохи. Не класс, а комната карликов на королевской картинке — кто кого перекричит в кувырке и куче.
…Пришла в класс — затоптанный, с разбитой мебелью. Дети, взбесившиеся от весны, перестройки и ничегонеделания. Крики, кривляние, никто учиться не хочет. Демократия только что вылупилась из яйца — все качали права, даже эти крохи. Не класс, а комната карликов на королевской картинке — кто кого перекричит в кувырке и куче.